Деколонизировать Шевченко: долгий путь возвращения к себе
Со времени Революции Достоинства украинская нация переживает период трансформации самоосознания - ускоренной и тем более болезненной, что происходит на фоне войны. Переосмысливаются и пересматриваются классические культурные каноны, десятилетиями навязываемые украинцам со стороны российской метрополии. Теперь, с большой кровью разрывая эти искусственные связи - мы перечитываем классиков, чтобы глубже понять: кто мы? Какие мы на самом деле?
Период стабильности от периода изменений отличается степенью устоявшегося мировосприятия. Для тех, кто родился в обрусевшей среде, где "родная речь" предшествовала урокам украинского языка, путь к собственной идентичности - это выход из пещеры. Пещеры привычки, навязанных ценностей, усвоенных мелодий и цитат. Там, где детские песенки и киноцитаты звучат раньше голоса родной культуры, пробуждение требует усилия ума.
В регионах с прерванным историческим наследием встреча с собственной культурой может наступить уже во взрослом возрасте
В регионах с прерванным историческим наследием встреча с собственной культурой может наступить уже во взрослом возрасте. Для кого-то открытием становятся "Маланка", "Дидух" или "Коляда" - слова, которые раньше казались фольклорными декорациями, а оказались знаками принадлежности. Выход из пещеры - не романтическое путешествие, а болезненный процесс: личность изменяет систему координат, а привычный свет вдруг ослепляет.
На этом этапе неизбежно появляется сомнение - главный инструмент картезианского мышления. Как когда-то Рене Декарт, подвергший сомнению все, чтобы найти непоколебимую истину, сегодня украинское общество вынуждено проверять на истинность собственную культурную память. В этом смысле фраза "Cogito ergo sum" - "мыслю, следовательно, существую" - становится метафорой выхода из колониальной тьмы: только мыслящий существует вне навязанного мифа.
Сомнению подлежит все - от топонимов и памятников до классических текстов. Украинский институт национальной памяти лишь очерчивает контуры этого процесса, но демонтаж имперских символов оказывается шире переименования улиц. Речь идет об очищении самого сознания, даже от образов, которые кажутся "своими". Так, фигуры Тараса Шевченко, Ивана Франко, Леси Украинки нуждаются не только в чествовании, но и в переосмыслении.
...деполитизированный Шевченко устраивал империю: он присутствовал всюду, но не действовал нигде
150-летие Леси Украинки (праздновали в карантинном 2021 году) показало, что театр колеблется между традиционностью и радикальным обновлением. Тарас Шевченко остается полем глубочайшего конфликта: его образ десятилетиями редуцировали к безопасному фольклорному символу. В школьном каноне он оставался "народным певцом" без политики - с "Садком вишневым", но без "Кавказа" и "Гадамаков". Именно такой деполитизированный Шевченко устраивал империю: он присутствовал всюду, но не действовал нигде.
Во время Майдана этот образ раскололся. На фоне революционной реальности строки Шевченко вновь обрели прямой смысл, вернули себе энергию гнева и свободы. Однако радиус понятности не смог одномоментно покрыть всю Украину - оставались многие, кто продолжал пережевывать имперские нарративы, и извлекать из памяти тезис, мол, Шевченко писал на русском… Даже теперь в общественном сознании сосуществуют два Тараса - бронзовый и живой. И здесь театр снова становится пространством методического сомнения: местом, где проверяют подлинность символов.
Через кукольную поэтику создатели выстраивают мир, где будущий поэт только ищет свое "я", еще не зная, что когда-нибудь от его имени будет говорить нация
Львовский академический театр кукол работает с образом Шевченко через оптику детского зрителя. В спектакле "Тарас" по Богдану Стельмаху режиссер Сергей Брижань и художник Михаил Николаев перенесли фокус со взрослого поэта на мальчика. Для зрителя семи лет Шевченко становится не памятником на постаменте, а сверстником, переживающим радость, потерю, первое стремление к справедливости. Через кукольную поэтику создатели выстраивают мир, где будущий поэт только ищет свое "я", еще не зная, что когда-нибудь от его имени будет говорить нация. Это первый, детский шаг выхода из пещеры - знакомство с живым человеком, а не с бронзовой фигурой.
Другой полюс - спектакль "Шевченко 2.0" Харьковского академического театра имени Тараса Шевченко. Ее создатели применяют к национальному мифу картезианский метод сомнения - не разрушая, а испытывая на истинность. От замысла академика Бориса Гринива до постановки режиссера Александра Ковшуна (по пьесе Дмитрия Тернового) спектакль прошел все испытания широкомасштабным вторжением вместе с Харьковом и стал своеобразным опытом над образом пророка. На сцене - "сны в два действия", фантасмагория, где Поэт (Валерий Брылев) встречает собственный Миф (Алексей Гридасов) и спорит с ним. Шевченко устает от бронзы, признается в раздвоенности, сомневается - и именно так возвращает себе жизнь.
Репетиции проходили в Харькове, но премьера, из-за ситуации безопасности, состоялась в Киеве, в ноябре 2024 года. Пространство спектакля выстроено как полигон сомнений: каждая сцена - столкновение с устоявшимся мифом. Творческая команда шаг за шагом демонтирует привычные представления: иронизирует над иконографическим "дедом в кожухе", полемизирует с "памятником", опровергающим самого себя, переосмысливает языковую гибридность и травму имперской среды, в которой формировался Шевченко. Здесь поэт признает свою раздвоенность, признается в усталости, ошибается, ревнует, сомневается, и именно поэтому становится ближе, чем любой бронзовый силуэт. Спектакль "Шевченко 2.0" это попытка честного диалога - с собой, с историей, с той культурной матрицей, в которой даже пророк может превратиться в декоративную икону. В октябре 2025 года сыграть спектакль удалось и в Харькове.
"Шевченко 2.0" работает экспериментальной площадкой по проверке смыслов: что останется от пророка, если снять слой патетики? Когда слово перестает быть лозунгом, оно снова становится мыслью. И это мнение - главный признак существования. В финале спектакля зритель выходит не из театра, а из пещеры - уже не к свету иллюзий, а к свету рефлексии.
Процесс культурного демонтажа продолжается. Ровенский драмтеатр в программе Второго трансформационного фестиваля "Скрудж Фест" в декабре 2025 будет рассматривать классические тексты как лабораторию мышления. Сцена с императрицей в "Ночи перед Рождеством" по Гоголю станет не этнографическим развлечением, а опытом просмотра колониальных пластов в самой ткани сценической интерпретации.
Так театр выполняет ту же функцию, что и метод Декарта: он заставляет сомневаться, чтобы вывести из тени. Культура мыслит - значит, существует. И путь из пещеры продолжается.















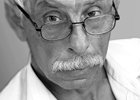



Комментарии